Не численностью единой...
Сергей Максудов
В российских СМИ широко обсуждается проблема снижения численности населения. В частности ей посвящена дискуссия на страницах журнала «Знамя» (№.5. 2002 «Население России у опасной черты»). Я хочу высказать несколько замечаний по этому поводу.
Люди – это богатство. Но известно, что из сотни наиболее бедных стран 80 страдают от перенаселения, а среди наиболее процветающих государств многие по плотности населения мало отличаются от России. Например, ее северные соседи: Норвегия, Швеция, Финляндия. А такие гиганты, как Канада и Австралия, заселены в три четыре раза менее плотно, чем Российская Федерация. Безусловно, люди – это богатство страны. Но богатство потенциальное, не всегда и не везде успешно реализуемое. Люди становятся богатством, когда они активны, образованны, независимы, когда окружающая социальная среда предоставляет им шанс для плодотворного использования их способностей.
Совершенно справедливо отмечает Анатолий Вишневский, что планете сегодня грозит перенаселение: через 50 лет землян будет раза в два больше и пока неясно, как эти 10-12 миллиардов накормить, напоить, пристроить к нормальной жизни. Однако было бы ошибкой считать, что сокращение населения Европы, США и России является при этих условиях благом для всего человечества. Нельзя рассматривать проблему количества людей отдельно от, условно говоря, их «качества». «Качество» в тысячи раз важнее количества. Если бы, исходя из страшных мальтузианских прогнозов, граждане развитых регионов, привыкшие к планированию семьи, 50-70 лет назад прекратили рождение детей, и сегодня мы имели бы вместо золотого миллиарда золотые сто миллионов, то не трудно вообразить каким ужасным оказалось бы существование жителей земли. Ведь именно научные усилия людей, родившихся и работавших в развитых странах в 20-м веке, позволили человечеству успешно справиться с удвоением и утроением его численности. И не просто справиться, но даже повысить доход на душу населения в самых густонаселенных государствах, таких как Бангладеш, Индия, Китай, Индонезия. Сегодня больше половины людей на земном шаре живет в регионах, где женщина в течение жизни рожает два или меньше чем два раза, то есть там происходит или скоро начнет происходить убыль населения, а рождение 4-5 детей (что совсем не много по нормам 19-го века) теперь позволяют себе лишь десять процентов женщин земли. Конец демографической революции уже хорошо виден. Удвоение к 2050 году, если и произойдет, то будет последним. Жителям отдельных регионов, таких как Индия и Африка предстоит решить свои непростые проблемы: экономические, социальные и главное психологические. Рано или поздно они должны будут понять, что родители несут ответственность за будущее детей, за их питание, воспитание, обучение, лечение и даже рождение. Если осознание этой истины затянется и если помощь развитого мира окажется недостаточной, то людям этим придется несладко. Но человечеству в целом их «инфантилизм» мало чем угрожает.
Проблема сокращения населения развитой части мира более серьезна. Ведь довольно высока вероятность, что именно в этом сообществе появятся великие ученые, изобретатели, политики и реформаторы, усилиями которых мы сможем продвинуться дальше вперед. Поэтому уменьшение числа людей, родившихся и воспитанных в этих государствах, снижает шанс на успешное решение проблем, стоящих перед жителями земли. Со временем отсталые сегодня страны перейдут к современным системам воспитания, образования, социальных взаимоотношений и зависимость прогресса человечества от так называемого цивилизованного мира снизится, но, к сожалению, это не может произойти достаточно быстро.
В свете сказанного обратимся к проблемам, стоящим перед правительством и населением России. Несмотря на отставание в экономике, серьезные социальные трудности, «выталкивающие» Россию из круга процветающих стран, по уровню образования и по усилиям, вкладываемым в науку, она принадлежала и пока еще принадлежит к развитому миру. В подтверждение можно указать на 15 нобелевских премий, полученных представителями России или выходцами из нее за последние 50 лет. Это примерно 7 процентов от всех врученных наград, а если исключить из расчетов США, то почти 15%. Принимая во внимание, что в ряде областей, в которых Нобелевские премии не вручаются (математика, космос и другие), Россия занимала довольно сильные позиции, можно считать, что в среднем российский вклад в развитие современного мира ставит ее в один ряд с западноевропейскими странами и Японией. Таким образом, сокращение российского населения явилось бы некоторой потерей для всего человечества.
Не столь очевидно это для государства российского. Численность населения сама по себе не решает никаких проблем. Сначала необходимо обеспечить нормальные условия существования людей. Более того, в неблагоприятной социальной обстановке, при отсутствии эффективного механизма экономического развития высокая численность является балластом, а не достоянием. Опасения демографического «давления» со стороны перенаселенных соседних стран не представляются серьезными. В современном мире и при современном оружии война как способ решения территориальных проблем практически исключена. Нелегальную миграцию не так уж трудно пресечь с помощью пограничников и милиции. Да и стремятся люди не туда, где много земли, а туда, где существуют благоприятные социальные и экономические условия, то есть в США и в плотно заселенные западноевропейские страны. В то же время при малоэффективной экономике, опирающейся главным образом на использование природных ресурсов и территорию, многочисленное население только помеха. Иными словами в производительном обществе каждый человек создает определенные ценности, в условиях же проедания накопленного прежде богатства лишние едоки – конкуренты за обеденным столом. Сошлемся на пример Саудовской Аравии. В 1979 году ее национальный доход составлял 98 млрд. долларов (11.5 тысяч на человека), через 20 лет он поднялся до 191 млрд., но в результате быстрого роста численности населения на одного гражданина приходилось уже только 9 тысяч долларов (с учетом инфляции в два с лишним раза меньше). В результате Саудовская Аравия выпала из клуба самых богатых государств, а ухудшение условий жизни привело к определенному росту социальной напряженности.
Представим себе самый «ужасный» вариант: через сто лет население России будет не 150, а 100, 50 или, допустим, 10 миллионов. В Москве окажется не 10, а один-два миллиона жителей. Это будет просторный, удобный город, где каждая семья будет иметь 3-5 комнатную квартиру, автомобиль, на котором будет нетрудно передвигаться даже в часы пик. На месте «хрущоб» будут парки, воздух и вода будут чистыми. Театров, музеев, школ, больниц и других общественных зданий на всех хватит. Ценность каждого отдельного человека, уважение к нему и его самоуважение несомненно возрастут и жить он будет если не счастливо, то по крайней мере нормально. Плохо ли это? Нет. Правда существуют определенные проблемы возрастного дисбаланса при переходе от более высокой численности к низкой, но они за счет роста производительных сил или миграции могут быть преодолены. Что же касается освоения доставшихся нам по историческому наследству географических пространств, то это не самоцель, а лишь средство обеспечения благополучного существования. Захотят наши внуки и правнуки уступить излишки жилой площади за большие или очень большие деньги богатым соседям, это их дело. Мы можем лишь пожелать им счастливой, достойной жизни.
Вернемся, однако, к журнальной дискуссии. Демографы Анатолий Вишневский и Сергей Захаров справедливо замечают, что рождаемость в современной России свидетельствует о ее принадлежности к цивилизованному миру. Нетрудно предсказать, что она будет продолжать падать, поскольку переход к более позднему вступлению в брак и откладыванию рождений на более поздний срок еще не завершен. Однако опыт развитых стран в достаточной мере утешителен: сегодня численность населения в них выше, чем десять, двадцать, пятьдесят и сто лет назад. То есть, систематическое снижение коэффициента воспроизводства компенсируется его периодическими повышениями.
Тревожной особенностью СССР и России являются не низкий уровень рождаемости, а рост смертности. Снижение повозрастной смертности и как следствие повышение продолжительности жизни, которая является интегральной оценкой экономических и социальных условий существования человека, стало во второй половине двадцатого века одной из основных задач современного государства. Большинство стран из года в год наращивают усилия по продлению жизни каждого человека, преодолевая имеющиеся негативные тенденции. К сожалению, этого нельзя сказать о современном государстве российском. Оно принадлежит к немногочисленным политическим системам, вроде Афганистана, Руанды или Зимбабве, в которых продолжительность жизни сегодня ниже чем 10, 20, а то и 30 лет назад. Правда некоторые бывшие советские ученые, в частности Виктор Переведенцев, выступивший на страницах «Знамени» («Корни лежат в тоталитарном прошлом»), стремятся возложить ответственность за неблагополучное положение на советский строй. Подход, увы, не оригинальный. Десятки лет мы слышали, что во всех бедах страны виновато проклятое царское прошлое и оскомина этих утверждений не позволяет к их повторению отнестись серьезно. При этом влияние истории не следует недооценивать.
Смертность населения России в 20-м веке существенно определялась огромными потерями населения во время трех демографических катастроф. Под потерями мы понимаем всех умерших раньше своего срока, принимая за норму уровень повозрастной смертности в относительно благополучные годы, предшествовавшие катастрофе. Оценки размеров этих потерь были опубликованы мной в 1977 году и нашли в дальнейшем подтверждение в работах других исследователей.
Первой катастрофой была Гражданская война (1918-22 гг.), сопровождавшаяся разрушением социальной структуры общества и развалом экономики. Военные потери были не велики, но болезни и голод унесли миллионы, в первую очередь слабых и хронически больных. Смертность фантастически возросла, что привело к преждевременному уходу из жизни десяти с лишним миллионов человек, так что потери составили около 35% от общей смертности. При этом сразу по завершению катастрофы, в 1923 году продолжительность жизни оказалась выше довоенного уровня.
Второй экономической и демографической катастрофой оказалась коллективизация и последовавший за ней голод. Потери в период 1930-34 годов составили около 8 миллионов человек, 25-30% от общей смертности за эти годы. В 1934-35 после отмены карточной системы и стабилизации сельскохозяйственного производства продолжительность жизни превысила уровень 1926-29 гг. и продолжала увеличиваться в последующие годы. Этот рост даже перекрыл потери от репрессий 1936-40 гг. – около 1,5 млн. человек убитых и умерших раньше своего часа в лагерях.
Третьей и самой тяжелой катастрофой явилась Великая Отечественная война. Гибель на фронтах, уничтожение фашистами мирного населения, повышенная смертность, как на оккупированной территории, так и в советском тылу в результате резкого ухудшения условий жизни, привели к гибели 26-28 млн. человек (65% от общей убыли за этот период).
Таким образом за неполных тридцать лет страна потеряла без малого 50 миллионов своих граждан. На долю Российской Федерации приходится примерно две трети этой повышенной убыли, то есть около 30 миллионов человек. Эти огромные потери не могли не сказаться на дальнейшей демографической судьбе населения России.
После войны сложилась парадоксальная ситуация. Люди были ослаблены болезнями и пережитыми трудностями, каждый пятый мужчина был ранен, контужен или стал инвалидом, и при этом население в целом оказалось относительно более здоровым, чем в предвоенные годы. В 1948 году продолжительность жизни мужчин составила 47, а женщин 56 лет (по сравнению с 36 и 42 годами в 1940) и продолжала стремительно расти, так что в 1958 году СССР практически догнал по этому показателю развитый мир. Советские демографы необычайно гордились замечательными успехами, объявив их «социалистическим законом народонаселения». В некотором отношении это так и было, поскольку демографическое благополучие 50-х годов являлось следствием огромных потерь населения в предыдущие годы, ответственность за которые несет в первую очередь советская власть. Мне пришлось писать об этом в 1981-82 гг., когда на Западе был замечен рост смертности в СССР и появились статьи о приближающейся «демографической катастрофе». В действительности кризис был не впереди, а позади и неблагополучие 70-х было следствием событий 30-х–40-х годов. Дело в том, что население, пройдя через катастрофу, становится другим: более приспособленным, относительно более здоровым (оно только что потеряло болезненную, менее живучую часть), более активным. Напомним, что поколения, родившиеся до революции и до войны, проходили еще один интенсивный отбор в начале своей жизни. Убыль 20-30%, новорожденных (до 50% достигших возраста пяти лет), затрагивала в первую очередь наиболее слабых, больных, с врожденными и наследственными пороками, и тем самым как бы оздоравливала вступающие в жизнь поколения.
Этот многократный отбор на выживание сделал население относительно более здоровым и позволил России в 50-е годы одним рывком догнать развитые страны. Однако такое искусственное благополучие не могло продолжаться бесконечно. Начиная с середины шестидесятых продолжительность жизни постепенно возвращается к «нормальному», в данном случае более низкому уровню. Усилия советской власти в области экономики, образования и здравоохранения сделали это снижение плавным и сравнительно небольшим. Низшей точки население России достигло в 1979-80 годах: 61.45 лет продолжительности жизни мужчин и 73 года женщин, после чего начинается ее постепенный рост. Вероятно, к этому времени негативная «восстановительная» тенденция, компенсировавшая результаты интенсивного отбора в годы катастроф, оказалась практически исчерпанной, население перестало быть псевдоздоровым и вернулось к «нормальному», соответствующему его социально-экономическому положению и медицинскому обслуживанию уровню. Конечно, в стране еще были живы несколько десятков миллионов мужчин и женщин, родившихся в начале двадцатого века, переживших коллективизацию и войну, но искусственно повышенное здоровье этих поколений, по-видимому, уже было более чем уравновешено персональными болезнями, травмами и ранами. Общий объем повышенной убыли населения в 1965-80 гг. составил приблизительно 1.5 млн. человек (около 4% от общей смертности).
Зададимся вопросом ответственна ли советская власть за эти негативные изменения 1965-80 гг.? Безусловно, да. Хотя причины роста смертности носили в значительной степени объективный характер, правительству необходимо было преодолеть эту отрицательную тенденцию. Такого рода обязанности, как уже отмечалось, выполняет подавляющее число развитых государств планеты. Возможность для стабилизации и даже роста продолжительности жизни у правительства Брежнева была. Некоторое ограничение потребления алкоголя и повышение затрат на здравоохранение за счет иного использования нефтяных доходов могли увеличить продолжительность жизни на 2-3 года.
В ельцинское время продолжительность жизни резко упала в 1992 -94 гг. (почти на 6 лет у мужчин и на 3 года у женщин), затем начала медленно расти и вновь прыгнула вниз в 1999-2000 годах. Потери населения в 1992-99 гг. составляли 200-400 тысяч человек в год или около 10-20% от среднегодовой смертности. Существует теория, согласно которой повышенная убыль населения в этот период коснулась главным образом алкоголиков, которым ограничение продажи водки Горбачевым продлило жизнь. Это не совсем так. Но главное, никакие объяснения причин роста смертности не снимают с правительства страны ответственности за преодоление неблагоприятного развития событий. В 80-е годы советское государство с этой обязанностью более или менее справлялась. Не приходится сомневаться, что не случись беловежского переворота и гайдаровской «прихватизации», экономическая реформа «500 дней», предполагавшая перераспределение средств между тяжелой и легкой промышленностью и повышенную закупку товаров широкого потребления за рубежом, международные займы, фактически обещанные Горбачеву, обеспечили бы улучшение положения населения и дальнейший рост продолжительности жизни. Но, даже оставив в стороне достижения перестройки, исходя из тенденции начала восьмидесятых годов, можно утверждать, что в конце века средняя продолжительность жизни должна была достигнуть 70 лет, то есть на 4-5 лет превышать сегодняшний уровень. Ответственность за происшедшее сокращение сроков жизни населения, несет вне сомнения послесоветская власть. Которая, к сожалению, пока еще глубоко убеждена, что не суббота для человека, а человек для субботы.
См. тж. Сергей Максудов, «Божий дар демократии и нефтяная яичница»
- Войдите на сайт для отправки комментариев


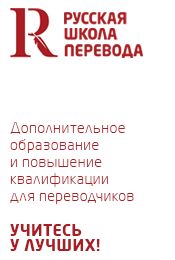




незнаю как по
незнаю как по мне так в журнале "Знамя" совсем не всегда пишут истину и правду ((
И не только там...
... но "не знаю" там пишут раздельно.
Тяжелое время
Жизнь - это...