Конформизм и конформисты
Перечитывая роман Альберто Моравиа «Конформист», нельзя не думать о нашем поколении, в котором многие (в том числе и я) значительную часть жизни прожили под знаком конформизма, и о поколении нынешних молодых людей. Конечно, возможностей выбора у них больше, чем было у нас, но мне кажется, что жизнь будет и их сталкивать с ситуациями, близкими или аналогичными тем, которые пришлось пережить многим из нас.
Название романа Моравиа до некоторой степени обманчиво. Это книга не столько о конформизме как таковом, сколько о его крайней форме, о том, как человек, начавший «просто конформистом», превращается в убийцу. Описано это у Моравиа блестяще. В то время как одноименный фильм Бертолуччи перегружен фрейдистскими и сексуальными мотивами, в книге они присутствуют в меру и не в ущерб основной линии и главной мысли романа.
Конформизм в понимании Моравиа (и я с ним согласен) – это прежде всего линия поведения человека в авторитарном или тоталитарном государстве (грань между которыми не всегда легко определить. Впрочем, роман не об этом). Выбрать иной вариант – и следовать ему – в принципе можно, но это трудно. Большая часть общества, люди, не склонные к рефлексии, выбирают конформизм «по умолчанию». Те, кто пытается осмыслить свое существование, нуждаются в оправдании конформизма, и здесь начинается самое интересное. Каким будет это оправдание? Будет ли оно оправданием самого человека, общества, государства, всего сразу? Как далеко может зайти человек в проявлениях конформизма? Что в итоге? На эти темы можно написать философский трактат, но, по-моему, это будет не так интересно, как хороший роман, оставляющий читателю возможность думать об этих трудных материях и приходить к собственным выводам. Такой роман написал Альберто Моравиа.
В нашем поколении многие прошли путь от искренних иллюзий и даже веры в советскую систему до ее более или менее осмысленного и полного неприятия, а затем – к конформизму, отчуждению или безразличию. Путь борьбы с системой выбирали немногие – прежде всего потому, что система казалась (и действительно была) хотя и не вечной, но имеющей длительный ресурс выживания. Насколько я помню, практически все, с кем мне приходилось общаться в 60-е – 70-е годы прошлого столетия, предполагали, что эта система сохранится на всем протяжении нашей жизни. Исходя из этого кто-то выбирал эмиграцию (но такая возможность была у немногих), а остальным приходилось думать, как строить свою жизнь в СССР.
От каких-либо иллюзий о «справедливости» и «передовом характере» советского строя я избавился довольно быстро, годам к четырнадцати. Что тут сыграло главную роль, сказать трудно, но думаю, что прежде всего чтение хорошей литературы. В нашей семье выписывали «Новый мир», «Москву», «Юность». Все это были, конечно, подцензурные издания, но я быстро заметил, что книги и статьи, в той или иной мере критические по отношению к советской системе, написаны, как правило, хорошо, а те, что отстаивают ее правоту и незыблемость, почти всегда ужасно. Это было для меня самым сильным, хотя не до конца осознанным аргументом. В какой-то степени, наверное, повлияло и то, что моя бабушка отсидела более шести лет в лагерях и вернулась с разбитым здоровьем, хотя и не избавившись полностью от догм и иллюзий (кстати, в ней сохранялась и свойственная большевикам дореволюционного призыва своеобразная демократичность). Но все-таки сначала перевешивали не идейные, а «стилистические» разногласия. Они побуждали смотреть на вещи критически, и наблюдение за реальной жизнью привело меня к выводу, что мы живем в полицейском государстве. Однажды я сказал об этом маме, и она ужаснулась («Ну, ты хватил!»), но спорить со мной не стала, отчасти, видимо, потому, что в отличие от бабушки не была склонна к спорам, особенно на политические темы.
Недавно я перечитал свои юношеские дневники и убедился, что критический взгляд на «систему» сохранялся у меня и в последние школьные годы, и в первые институтские. Эволюция в сторону конформизма началась позже и, учитывая характер института, в котором я учился, и мои жизненные планы, была, по-видимому неизбежной.
Иняз, особенно его переводческий факультет, считался «идеологическим вузом». Я думаю, что партийная власть видела в этой формулировке скорее оборонительный, чем наступательный смысл: ведь само по себе изучение иностранных языков, чтение литературы (хотя то, что мы читали, тщательно фильтровалось, возможности власти в этом отношении были все же не безграничны), кино, общение с «иностранцами» и, наконец, поездки за рубеж – все это делало нас особенно уязвимыми для западных веяний. Нас не столько хотели сделать «бойцами идеологического фронта», сколько оградить от наиболее пагубных с точки зрения власти влияний. Но, думаю, и в этом не вполне преуспели. Общий настрой большинства студентов был прозападный, только одни это скрывали, другие не очень.
К конформизму студентов переводческого факультета в гораздо большей мере подталкивала жизненная и карьерная перспектива. Для большинства выбор был невелик: министерство обороны и спецслужбы (это так или иначе предлагалось почти всем), преподавание (это предлагали далеко не всем), работа переводчиком в государственных экономических или пропагандистских структурах, почти не существовавший тогда фриланс… В подавляющем большинстве случаев человек оказывался в зависимости от системы, от государства. А это не может не влиять на мышление, мировоззрение. Иногда это приводит к чудовищному диссонансу, плоды которого мы видели в конце 80-х годов, когда пламенные пропагандисты режима в одночасье становились его непримиримыми противниками. Но чаще всего человек вольно или невольно, полностью или частично приспосабливает свое поведение, а потом и мышление под требования власти.
Мне выпал счастливый билет – группа синхронистов на Курсах переводчиков ООН. Если письменных переводчиков рекрутировали в основном из МГИМО и таких специфических вузов, как Университет дружбы народов, то синхронистов набирали почти исключительно из иняза – уровень владения языками был у нас выше, а дополнительных требований нам почти не предъявляли, кроме, разумеется, внешней благонадежности.
И уже на пятом курсе института заработал механизм приспособления, конформизма. «Стилистические разногласия», разумеется, сохранялись. Но, во всяком случае в то время (и во всяком случае для меня), было почти невозможно «зависеть от царя» (государства) и не становиться хотя бы в какой-то мере на позицию его признания, понимания, а потом и сближения с ним. К тому же именно тогда – через пару лет после шока от вторжения советских войск в Чехословакию – возникли некоторые «вторичные иллюзии» о возможности некоторой гуманизации режима. Были подписаны соглашения с США и ФРГ, предпринимались робкие попытки экономических изменений (задушенная вскоре «косыгинская реформа»), а главное – не произошло торжества «ресталинизации», которой так боялась советская интеллигенция во второй половине 60-х годов. Вполне можно было убедить себя, что дело обстоит не так плохо, как могло бы быть. Да и давление партийно-государственной власти было довольно мягким. Меня (да и большинство других, как мне кажется), во всяком случае не тащили силком в те структуры и за ту черту, где могли происходить вещи, подобные описываемым в романе Моравиа. Вообще советский режим тех лет был относительно «вегетарианский», не злой, не склонный к риску и вообще резким движениям, ориентировавшийся на сохранение статус-кво. И это облегчало приспособление к нему.
Моя «нью-йоркская пятилетка» (работа в секретариате ООН с ноября 1974 по декабрь 1979 года) совпала с периодом краха надежд и иллюзий. Режим загнивал – именно это слово, изредка, по инерции применявшееся нашей пропагандой по отношению к Западу, который тогда переживал действительно не лучшие времена, более всего подходило для описания тогдашней советской действительности. И все-таки полностью отказаться от конформистской позиции было невозможно. По карьерным причинам, но также и потому, что шла пропагандистская война, и не все, что писали и говорили в Америке о нашей стране, было верно и правдиво. Да и тогда, когда это было верно и правдиво, часто не хотелось с этим соглашаться. На помощь приходили пушкинские слова из письма Вяземскому: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мной этой чувство». Реакция вполне естественная, по-моему, но от нее – один шаг к «Бородинской годовщине» и «Клеветникам России», которые сейчас многие у нас так любят цитировать.
В какой-то момент я стал замечать, что мой конформизм заходит слишком далеко – впрочем, если это произошло с таким гением, как Пушкин, что же удивляться реакции рядового советского гражданина? Другое дело – думаешь обо всем этом, и кажется, готов оправдать многое, даже вторжение в Афганистан, гонения на диссидентов, давление на Польшу, но в душе понимаешь: что-то тут не так, защищать это с пеной у рта я не способен. Здесь, мне кажется, лежит важная грань среди известных разновидностей конформизма: между теми, кто пытается найти в действиях авторитарного режима некое зерно, которое можно если не оправдать, то понять, и теми, кто по недомыслию или лицемерно готов словом и делом поддержать любые его действия. И следующая грань – между этими людьми и теми, кто готов при этом на действия, несовместимые с человеческой моралью. Это уже, конечно, не конформизм, а что-то иное, поэтому я и сказал в самом начале, что название романа Моравиа может быть обманчивым.
Судьба конформистов может оказаться разной. Все зависит от того, как долго живет режим, к которому они приспосабливаются. Брат моей мамы дядя Володя родился в 1921 году, умер от рака мозга (видимо, следствие фронтовой контузии) в 1977-м. Он всю жизнь прожил при советской власти, был, безусловно, конформистом и совершал поступки, может быть, не самые страшные, но которыми вряд ли гордился. У героя романа Моравиа – другая судьба. Режим, которому он служил, рушится в 1944 году, и жизнь его и его семьи сразу идет под откос. Но Моравиа (и Бертолуччи – в этом фильм и роман схожи, при всех их огромных различиях) не интересует идея возмездия, платы за конформизм. Марчелло гибнет скорее случайно (у Бертолуччи вообще не гибнет, вместо этого – «открытый финал» с гомоэротическим мотивом). В финале романа важную для автора мысль высказывает, как ни странно, жена главного героя, недалекая Джулия. Незадолго до их гибели между ней и Марчелло происходит следующий диалог:
Скажи, о чем ты сейчас думаешь?
Ни о чем, - ответила она, я совершенно ни о чем не думаю… смотрю на пейзажи.
Нет, что ты думаешь в общем?
В общем? Думаю, что дела наши плохи… но что никто в этом не виноват.
Может быть, я виноват.
Почему ты? В этом никто никогда не виноват… все одновременно и правы, и не правы… дела идут плохо, потому что идут плохо, вот и все.
Конформисты моего поколения пережили коллапс советской системы и относительно мягкий переход к другому строю. Одной из основ моего конформизма было убеждение, что перемены в нашей стране должны начаться сверху, с либерализации режима, с какой-то версии «пражской весны» и попытки создать «социализм с человеческим лицом». Не получилось, и в результате возник капитализм с лицом довольно бесчеловечным. Но все-таки это лучше, чем «война всех против всех», а это тоже могло произойти, как и другие варианты – «чаушескизация» режима или его трансформация в духе пугавших меня идей «русской партии», публицисты которой в последние советские десятилетия активно печатались в журналах «Наш современник» и «Молодая гвардия».
Будет ли наша власть, быстро эволюционирующая в жестко-авторитарном направлении, навязывать нынешним поколениям свою «консервативно-патриотическую» идеологию, делать ее принятие условием «вертикальной мобильности»? Мне кажется, что во многих случаях идейный конформизм будет необходим для хорошей карьеры. Возможно, это в какой-то мере произойдет и в такой специфической сфере, как профессия переводчика. Я заметил, что если сорок лет назад подавляющее большинство моих коллег были склонны «смотреть на Запад», то сейчас многие настроены скорее антизападно и уж точно – антиамерикански. Но пока еще это продукт их собственных убеждений и заблуждений (возникший, надо полагать, не на пустом месте, а под влиянием пронизывающих наше общество пропагандистских установок, которые многие воспринимают очень уж некритически), а не результат принуждения со стороны властей. Но мне кажется, что чем дальше, тем больше власть будет нагибать нынешнюю молодежь, заставлять ее следовать все более жестким правилам, требованиям и ограничениям.
Конформизм и конформисты нового поколения будут не такими, как мы. Осуждать их, читать им мораль было бы с моей стороны глупо. Одно могу сказать: если придется приспосабливаться к условиям жизни и работы в рамках нынешнего режима, все-таки необходимо, по-моему, отдавать себе отчет в том, что этот режим – недемократический и неправовой. Работая на него, сотрудничая с ним, можно, наверное, сделать и что-то полезное, но иллюзий лучше не питать. И понимать, что само по себе существование конформизма как общественного явления – признак того, что «дела наши плохи», хотя, возможно, «никто в этом не виноват».
- Войдите на сайт для отправки комментариев


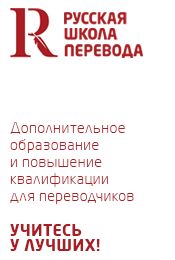




переводчик-конформист.
Устный переводчик всегда конформист по роду своей профессии. При устном переводе он должен как можно точнее передавать мысли и слова говорящего, не выражать своего мнения и не проявлять свои эмоции. Если его не замечают, то это только плюс. Выбирая профессию устного переводчика, вы становитесь конформистом. Вы даже переводите от первого лица. Я не прав? Нас можно сравнить с героем книги и фильма The remains of the day.
Другой "конформизм"
В мой статье речь идет о конформизме, навязанном человеку государством, которое практически не оставляет ему выбора. Приравнивать этот конформизм к "конформизму" профессиональному, корпоративному и т.п. - принципиально неверно.
Выбор
всегда есть, особенно в наше время. Сегодня мы не стоим перед дилеммой - жизнь или смерть, работа или полный запрет на профессию. Даже хлеб с маслом можно заработать без необходимости быть конформистом. Другое дело гражданская позиция. Плохо, когда работаешь на "хозяина",а в узком кругу возмущаешься или издеваешься над ним. Но это не конформизм, а лакейство. А нынешний режим не такой уж и неправовой, не такой уж и полицейский. Сравним с другими странами. Мне показалось, что Вы больно мрачно оцениваете перспективы развития. Просто это вечный вопрос, на который каждый должен ответить самостоятельно.