Профессия и время
Павел Палажченко
Статья, опубликованная с сокращениями под названием «Что за словом?» в журнале «Международная жизнь» №9-10, 2003 г. Полный текст опубликован в книге «Прорыв к свободе: О перестройке двадцать лет спустя (критический анализ)». — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
Габриэль Гарсия Маркес назвал перевод самым внимательным способом чтения. Профессиональный переводчик, волею судьбы оказавшийся свидетелем и участником исторических событий, вольно или невольно воспринимает их и как текст, он просто обязан — или, как сейчас модно говорить, обречен — уделять слову повышенное внимание. И, может быть иногда неожиданным образом, в результате не только решает свои специальные переводческие задачи, но и приходит к собственному пониманию того, что стоит за словом, за текстом.
Для меня причастность к международным событиям 1985-1991 года, ознаменовавшим окончание холодной войны, была довольно случайной и, конечно, незапланированной — такие вещи вообще нельзя планировать, а свое участие в них тем более. В начале 1980-х годов в Министерстве иностранных дел СССР было совсем немного выпускников моей «альма матер» — московского инъяза. И если бы не расширение в те годы отдела переводов МИД СССР, то, закончив в конце 1979 года пятилетний «срок» работы синхронным переводчиком в ООН (установленные ЦК КПСС правила предусматривали обязательную ротацию советских сотрудников международных организаций, заключение «пожизненных контрактов» не допускалось), я скорее всего вернулся бы в свой институт и занялся преподавательской работой, тем более что опыт такой работы у меня был.
Создание в мидовском отделе переводов резерва для работы в международных организациях и на переговорах по разоружению изменило не только мои планы. В МИД пришла довольно большая группа людей, имевших опыт работы в Нью-Йорке и Женеве, большинство из них — со специальным лингвистическим образованием. Это, надо сказать, привело к значительному улучшению качества работы отдела переводов. Наша тогдашняя «команда» не уступала никому.
Конечно, я никогда не пожалел, что моя судьба совершила такой поворот. Даже если бы впоследствии мне не выпал «счастливый билет» в Женеву, Рейкьявик, Вашингтон, на Мальту, в Хельсинки, моя мидовская работа в первой половине 80-х годов была интересной и требовательной в профессиональном отношении. И если пять лет работы в секретариате ООН сделали меня крепким профессионалом синхронного перевода, работа на переговорах по разоружению дала очень много для совершенствования навыков, если можно так выразиться, «переговорного перевода» — хотя такого термина нет, но занятие это, безусловно, существует и требует не только лингвистического умения, но и серьезной специальной и психологической подготовки, умения разбираться не только в словах, но и в людях. В этом отношении «анонимная» работа в кабине синхронного переводчика ООН намного проще.
Переговоры по разоружению велись в тот период совершенно безрезультатно, считалось, что сам факт их — уже достижение (в конце 1983 года, как известно, рухнуло и оно). Но вели эти переговоры выдающиеся профессионалы, контакты с которыми запомнились и многому меня научили. Среди наших дипломатов выделялись такие крупные и даже «культовые» в своей среде фигуры, как Ю.А. Квицинский, В.П. Карпов, О.А. Гриневский (с каждым из них я работал и всем им благодарен), среди американцев это был, безусловно, Поль Нитце — человек с огромным опытом и редкой эрудицией.
Но переговоры по разоружению — не «школа дипломатического искусства» и не курсы усовершенствования переводчиков, от них ждут чего-то реального, а с этим было очень туго. Проходили бесконечные заседания — пленарные, в рабочих группах, встречи в неформальной обстановке, коктейли и ужины (выпито было, надо сказать, очень много и, к сожалению, не без последствий для некоторых талантливых людей, не сумевших справиться с главной русской бедой), а прогресса не было. Причины этого были, конечно, политические и, стало быть, неустранимые методами дипломатии и тем более лингвистики. Чтобы сдвинуть дело с места, надо было совершить хотя бы небольшой политический прорыв — что и попытались сделать летом 1982 года Поль Нитце и Ю.А. Квицинский во время своей знаменитой «прогулки в лесу» (недалеко от местечка Сен-Серг в окрестностях Женевы).
В Москве предложенный Нитце и слегка подкорректированный Квицинским вариант отказались даже обсуждать, более того — устроили нашему дипломату что-то вроде выволочки. Конечно, психологически нашему руководству нелегко было втягиваться в обсуждение варианта, предусматривавшего одновременную ликвидацию значительной части наших новых ракет «Пионер» (СС-20) и развертывание американских крылатых ракет (но не баллистических «Першингов»). Мне этот вариант тоже казался хуже рейгановского «нулевого варианта», но тот вообще был тогда для советского руководства абсолютной анафемой («Это для нас дырка от бублика», — сказал на одной из первых встреч делегаций Квицинский, и на перевод этой фразы американцы отреагировали с полным пониманием юмора). Так или иначе, когда через год с небольшим в Европе стали появляться «Першинги», в Москве — даже, наверное, в Генштабе — не могли не пожалеть об отказе «с порога» обсуждать ту альтернативу.
Несоизмеримый с затратами «нулевой результат» наших переговорных усилий и реально повысившаяся угроза нашей безопасности наводили на грустные мысли. Но политика — и даже ее словесное оформление — не менялись. Мы не заметили, как лозунги «разрядке нет альтернативы», «сделать разрядку необратимой», «дополнить политическую разрядку военной» стали от частого повторения и явного противоречия реальности звучать бессмысленно и даже порой гротескно. Да и само слово «разрядка», столь милое сердцу Л.И. Брежнева, было не самым удачным выбором для обозначения долгосрочной политики. В самом деле, по-русски слово «разрядка» (сначала говорили полностью — «разрядка международной напряженности», потом под влиянием французского слова détente сократили) напоминает о чем-то вроде передышки между приступами напряженности, но это бы еще ничего. Хуже то, что принятый английский эквивалент (та же détente) звучал для большинства американцев как иностранное — диковинное и вычурное — слово, и работая в США в конце 70-х годов, я видел, как в наступлении на эту политику ее американские противники использовали этот факт.
Наверное, это слово стало обозначением советской политики в отношении Запада не случайно, а отчасти потому, что брежневское руководство хотело чем-то заменить термин «мирное сосуществование», ассоциировавшийся с Хрущевым. И хотя он не был полностью списан в архив, его употребляли все реже, вводя в обиход «разрядку». Уверен, что можно было найти другую формулировку, и это нужно было сделать, когда стало ясно, что понятие разрядки дискредитировано на Западе, особенно в США. Но, конечно, слово не всесильно. Кстати говоря, речи Брежнева на международные темы писали люди выдающиеся, в том числе А.Е. Бовин, В.В. Загладин, А.Г. Арбатов, а министр иностранных дел А.А. Громыко, хоть и не имел таких «речевиков», иногда выдавал очень эффектные реплики. И все же, при любом словесном оформлении, советская внешняя политика догорбачевского периода не могла стать основой для прорыва в международных отношениях и прекращения холодной войны. Для этого нужна была готовность к ее демилитаризации и деидеологизации, а у руководства, двинувшего войска в 1968 году в Чехословакию, а в 1979-ом — в Афганистан, такой готовности быть не могло.
Периоды, подобные нашему «застою», для общества становятся временем «накопления сил», а для отдельного человека — профессионального поиска, нахождения пусть технических, но, может быть, важных для будущего решений. Мне и моим коллегам хотелось, чтобы наши переводы вырвались за пределы того суконного, тяжеловесного «госстандарта», который был характерен для публикаций на английском языке ТАСС и АПН. В англоязычной печати над этими переводами часто посмеивались, приводя совсем уж одиозные примеры. Но справедливости ради надо сказать, что порой у переводчиков не было выбора, ибо начальство строго следило за тем, чтобы переводчик «не отходил от текста». Как говорится, «шаг влево, шаг вправо...» Нередко плохое качество самого исходного текста и буквализм в переводе давали в результате взрывоопасную смесь. Чтобы избежать этого, переводчик должен хотя бы иногда проявить профессиональную, да и человеческую смелость, а она не у всех есть.
К счастью, в МИДе «госстандарт» определял такой человек, как В.М. Суходрев, который обладал непререкаемым авторитетом и к которому мы, молодые переводчики, могли иногда апеллировать. Вообще воспоминания о работе с ним относятся к самым ярким — уверен, не только у меня, но и у всех моих тогдашних коллег. Собственно, биография этого человека — доказательство того, что высокий профессионализм возможен и необходим в любое время. Не говорю уже о его обаянии и человеческих качествах — просто потому, что это не совсем «в тему».
Общее настроение в те годы, как в стране в целом, так и в МИДе — и об этом стоит напомнить, ибо многие, и особенно некоторые люди, претендующие на историческое и стратегическое мышление, об этом как-то «подзабыли» — определялось ожиданием перемен. Эти перемены должны были иметь политический характер и могли начаться только сверху. Они начались с приходом на высший пост в стране М.С. Горбачева, и автор этих строк — один из тех, кто считает, что, несмотря на все промахи и издержки, эти перемены были благотворны для нашей страны и для мира. Это было время, когда менялись и слова, и дела — и текст, и то, что за ним стоит.
Оказавшись основным переводчиком советского лидера в силу стечения обстоятельств, я стал и остался сторонником его политики. Ее внутренний и внешний аспекты взаимосвязаны, но здесь речь, разумеется, прежде всего о результатах на международной арене. В 1985 году у СССР были плохие отношения с США и Западной Европой, наши войска увязли в тяжелой и бесперспективной войне в Афганистане, нам дорого — в прямом и переносном смысле обходилась наша вовлеченность в дела ряда стран «третьего мира», ненормальными на протяжении целых десятилетий оставались наши отношения с Китаем. Список болевых точек в наших международных отношениях этим не исчерпывался. В близкой мне сфере разоружения положение было едва ли не катастрофическим, и справедливость требовала признать, что в этом была большая доля нашей вины. Когда на переговорах о ракетах средней дальности Поль Нитце говорил: «Вы хотите иметь столько же оружия, сколько все ваши потенциальные противники вместе взятые», с этим — во всяком случае в применении к этому классу оружия — нельзя было «про себя» не согласиться.
Всего за несколько лет ситуация изменилась разительно. К началу 90-х годов мы имели нормальные отношения со всеми великими державами, в том числе и прежде всего с США и Китаем, наши войска ушли — а не убежали — из Афганистана, мы вышли из конфронтации в других странах третьего мира, находящихся за тридевять земель от наших границ, — Анголе, Камбодже, Никарагуа, начали процесс реального сокращения ядерных и обычных вооружений, переломили отношение к нашей стране в мире. Позитивным я считаю и то, что мы «отпустили» страны Восточной Европы, которые были нашими союзниками чисто номинально, на уровне слов и утративших всякое значение ритуалов.
Нужно ли об этом напоминать? Думаю, нужно. Внешняя политика Горбачева подвергается сейчас не меньшим нападкам, чем внутренняя, обросла огромным количеством негативных мифов, основанных либо на непонимании, либо на фокусах памяти, либо на элементарном вранье. Особенно критикуют Горбачева за объединение Германии, одни — за то, что он «допустил» его, другие — за то, что «не взял цену». Особенно часто стали вспоминать ему это, когда у нас поднялась истерия по поводу расширения НАТО. Тогда даже вроде бы серьезные комментаторы (в частности, Алексей Пушков в одной из своих больших статей в «Независимой газете») стали писать, что Горбачев должен был добиться «кодификации» обязательства о нерасширении НАТО. Что тут сказать? «Кодифицировать», как можно убедиться, посмотрев в словарь, можно только право, законы, а получить у любой организации обязательство о замораживании ее членского состава — это не «кодификация», а несбыточная иллюзия, во всяком случае прецедентов этому, насколько мне известно, нет. Не получилось это и у преемников Горбачева, попытавшихся было поставить вопрос о «недопустимости» вступления в НАТО бывших республик Советского Союза (имелись в виду, конечно, страны Балтии).
Случаются и совсем недобросовестные выдумки. Так в феврале 1997 года генерал КГБ, а ныне профессор Н. Леонов опубликовал в «Комсомольской правде» статью «Кремлевские секреты хорошо идут под водочку». В ней он утверждал, что беседы Горбачева с иностранными политиками «не фиксировались в записях», что «о подобных переговорах стране никто не знал» и что Горбачев, бывало, прибегал к услугам лишь «чужих переводчиков». Все это, конечно, просто вздор, и вместе с бывшим помощником президента СССР А.С. Черняевым мы отправили в «Комсомольскую правду» небольшую заметку, где ответили по всем позициям: что помощник Горбачева по международным вопросам присутствовал на всех беседах, что не было ни одного случая, когда такие беседы велись без нашего переводчика, что все беседы, в частности с американскими президентами и госсекретарями, записывались в тот же день и рассылались членам политбюро. «Комсомолка» отказала нам в публикации ответа. Слава богу, его удалось опубликовать в «Московских новостях».
Несколько иной характер имеют домыслы в статьях некоторых представителей нового поколения наших международников. Причина чаще всего — в недостаточных знаниях и чисто инерционной привычке «укусить» Горбачева. Недавно мне пришлось полемизировать с редактором международного отдела «Известий». Приведу здесь полностью свою реплику (газета ее опубликовала):
«В статье «Конкретное джентльменское соглашение» (23.11. 2002) Георгий Бовт делает вывод о том, что президенты Путин и Буш договорились: Путин «расслабляется» относительно американского удара по Ираку и в обмен получает «гарантии того, что США не забудут об интересах России в Ираке».
Думаю, для такого вывода недостаточно оснований. Но речь не об этом. Походя автор бросает ритуальный камешек в Горбачева: «...Буш не намеревался живописать Путину утопическую картину дружбы Америки и России на манер той, что живописали американцы, скажем, Горбачеву в период президентства Буша-отца — в «награду» за роспуск Варшавского договора, «похороны» ГДР и поддержку в первой войне с Ираком. Да и Путин — не Горбачев».
Видимо, автор проник в намерения президента США. Мне они неизвестны. Но я был на всех переговорах Горбачева и Буша-старшего и точно знаю, что никакие «утопические картины дружбы» не живописались. Да и за что нас было «награждать»? Страны, переставшие быть нашими союзниками, сами ушли из Варшавского договора, и уж тем более не мы «хоронили» ГДР, а ее граждане.
Чуть ниже автор пишет: «...Путин с Бушем-младшим играет куда в более прагматическую игру, чем Горбачев с Бушем-старшим: не надо нам никаких глобальных альянсов и головокружительных планов российско-американского братства от Европы до Марса. Давайте договариваться конкретно».
О «глобальных альянсах» тоже речи не было и быть не могло, хотя бы потому что мы тогда еще только выходили из холодной войны и тональность разговоров была соответствующая. Не было и «планов российско-американского братства». Зато были конкретные соглашения — договор о ликвидации ракет средней дальности, полностью выполненный, и договор СНВ-1, подтвержденный президентами России и США в новом договоре о стратегических ядерных потенциалах.
Что «Путин — не Горбачев», спорить не приходится. Видимо, это намек на то, что ни президент, ни министр иностранных дел не заявляют о преемственности российской внешней политики с внешней политикой Горбачева. В действительности, однако, такая преемственность налицо. И в ориентации на включение страны в мировую экономику, и в курсе на сотрудничество с Западом, и в стремлении установить отношения доверия с лидерами ведущих государств, и в прагматической готовности не цепляться за позиции, удержание которых бессмысленно и вредно для страны».
(Добавлю по ходу, что, как подтвердилось впоследствии, оказалось полностью несостоятельным и предположение-прогноз автора известинской статьи о «джентльменском соглашении» Путина и Буша — тут он явно принимал желаемое за действительное, а журналистам это так же противопоказано, как политикам).
В последние годы и особенно месяцы президентства Горбачева моя лояльность ему только усиливалась при виде того, как люди, еще вчера «с придыханием» произносившие его имя, быстро меняли ориентиры и переходили к поношениям его и его политики. Часто за этой метаморфозой было желание вскочить на подножку поезда и оказаться в «команде победителей». И тогда, и позже многие из этих людей по-разному обосновывали свое бегство, но интересно, что среди их «претензий» к Горбачеву фигурировали и «лингвистические» или «стилистические» аргументы. И до сих пор они время от времени с удивительной для меня (но «подсознательно» вполне обоснованной) агрессивностью проезжаются по поводу особенностей южнорусского выговора Горбачева, неправильно поставленных ударений в двух-трех словах и т.п. (сказал же Набоков: «...мысли, манеры, говор где-нибудь во времени и пространстве непременно наткнутся на роковую неприязнь толпы, которую бесит именно это»). Иногда это даже приобретает совершенно абсурдную форму «комплимента» в адрес переводчика: дескать, Горбачев что-то там «несет», разобраться совершенно невозможно, но, слава богу, переводчик его спасает. Попытаюсь ответить на эти «обвинения» и «комплименты».
Действительно, речь Горбачева гладкой не назовешь. Советский руководитель, впервые за много лет заговоривший на глазах миллионов людей не по бумажке (и давший этим миллионам возможность, не боясь, говорить то, что они думают) часто оказывался в напряженных ситуациях политической борьбы, в которых он не хотел отмалчиваться и безоглядно бросался в бой. Тут было не до стилистики, не до грамматики. Да и в более спокойной обстановке он постоянно хотел объясниться с людьми, и, как это бывает в человеческом разговоре, его «мысли вслух» выглядели иногда сумбурно. Думаю все же, что это было неизмеримо лучше, чем герметическая закрытость его предшественников, чисто формальные отговорки или малосодержательная «гладкопись». И могу со всей ответственностью сказать: хотя в моем переводе его фразы приобретали грамматическую правильность и некоторую стилистическую отделку, я никогда не позволял себе ничего придумывать или редактировать содержание сказанного. К сожалению, на определенном этапе наша интеллигенция не захотела понимать Горбачева, а если бы захотела — то «несоответствие формы и содержания» не стало бы препятствием. Решала политика, а не стилистика. И западные партнеры поняли Горбачева не потому, что его речи были хорошо переведены. Если нет содержания, никакой переводчик не поможет. У Горбачева оно было.
Вообще достоинства «говорения как по писанному» часто преувеличиваются. Никак не сближая и не сопоставляя Горбачева и Гоголя, приведу все-таки (как «информацию к размышлению») цитату из воспоминаний Л.И. Арнольди о великом русском писателе: «Гоголь очень часто употреблял слово «слишком». Это была одна из особенностей его слога, часто неправильного, иногда запутанного, но в котором было зато так много крупного, сильного и мало той легкости, с которой пишутся некоторые русские фельетоны, заботящиеся не о силе слога, верности, меткости, а только о правильности языка».
Еще одной претензией к Горбачеву была его приверженность «социалистической риторике». И здесь опять уместно задать вопрос: что за словом? Политик, ставший во главе страны, на протяжении десятилетий декларировавшей свою «социалистичность» (и к тому же генсек коммунистической партии), никакого выбора не имел — социалистическая риторика была единственным политически приемлемым для него словарем. Отказ от нее был бы равносилен переходу на идиш или суахили, и с таким генсеком «разобрались» бы задолго до августа 1991 года и без помощи ГКЧП. А «за текстом» был постепенный демонтаж системы, унаследованной Горбачевым и не сильно изменившейся со сталинских времен (как называть ее — для меня до сих пор не ясно; по разным причинам не совсем подходит ни определение «социалистическая», ни «тоталитарная»). К началу 1990-х годов были убраны или размыты все основные опоры этой системы — проведены альтернативные выборы, разрешена частная собственность (сначала в виде кооперативов, а затем под лозунгами разгосударствления и приватизации), объявлена гласность, быстро переросшая в свободу слова, изменено отношение к религии и церкви, разрешен свободный выезд из страны, положен конец конфронтации практически со всем остальным миром. Причем происходила не только быстрая эволюция реальной идеологии самого Горбачева в направлении социал-демократии — был открыт простор и для гораздо более правых идейных течений (помню, как один англичанин сказал мне в 1990 году: «Ваши молодые экономисты — большие тэтчеристы, чем сама Тэтчер»).
Эти годы были для меня буквально калейдоскопическими по объему впечатлений. Работая и с Горбачевым, и с Э.А. Шеварднадзе (чью роль в прекращении холодной войны сейчас либо забывают, либо искажают — в основном по чисто конъюнктурным соображениям), я не пропустил ни одного советско-американского саммита, участвовал практически во всех переговорах на уровне министров, где в многочасовых обсуждениях отрабатывались конкретные, иногда очень сложные в техническом отношении вопросы, переводил беседы с руководителями и министрами Великобритании, Индии, Канады, Израиля, Иордании, Австралии, Филиппин, Нигерии, ЮАР и многих других стран. Все это было непросто в профессиональном отношении и иногда даже физически тяжело, но помогала мотивация — я верил, что участвую в исторически необходимом для страны и мира деле.
Горбачев и Шеварднадзе имели дело с достойными партнерами. Конечно, больше всех мне запомнились американцы. Сначала это были Рейган и Шульц — люди разные, воплощающие разные стороны американского национального характера и очень хорошо дополнявшие друг друга. Шульц, между прочим, был первым, кто предложил использовать в ходе переговоров синхронный перевод, Шеварднадзе, несмотря на сомнения некоторых из своих замов, согласился, и первый эксперимент синхронного перевода на встрече американской и советской делегаций в Хельсинки в июне 1985 года был вполне успешным, хотя наш недавно назначенный министр волновался на удивление заметно. Потом принятый тогда вариант закрепился — синхрон на переговорах в составе делегаций, а во время бесед один на один — последовательный перевод.
В сентябре того же года во время поездки Шеварднадзе в США на сессию генеральной ассамблеи ООН состоялась его встреча с президентом Рейганом. Я тоже впервые оказался рядом с этим человеком, и должен сказать, что впечатление было довольно неожиданным: автор известных высказываний об «империи зла» был любезен, излучал гостеприимство и даже, я бы сказал, желание понравиться. Потом я убедился, что это действительно было особенностью его характера — и мне она кажется очень симпатичной. Но, конечно, Горбачев и Рейган были очень разными людьми, более разных нелегко себе представить: бывший голливудский актер, потом губернатор Калифорнии, в круге общения которого преобладали «богатые и красивые», и уроженец ставропольских степей с огромными ручищами комбайнера, прошедший все этажи советской системы. Антикоммунистические убеждения Рейгана были пусть несколько примитивными, но вполне искренними, а Горбачев поначалу был изрядно «нагружен» советскими идеологическими и политическими стереотипами. То, что эти люди нашли — хотя не сразу и не просто — общий язык и не дали себя сбить с пути сближения СССР и США, делает им честь как политикам и историческим личностям. Потому что ухабов на этом пути, подножек, срывов, по-человечески понятных промахов, недоразумений было множество.
Не всë мы тогда знали, некоторые вещи представляли себе неверно или неточно. Была, конечно, и дезинформация. Может быть, она сыграла какую-то роль в том, что сложно складывались отношения Раисы Максимовны Горбачевой и Нэнси Рейган. Я не присутствовал при их личном общении, но возникло впечатление, что они поначалу не поняли друг друга. Потом, из разговоров с Джеком Мэтлоком, который тогда был помощником Рейгана, а потом стал послом в СССР, мы узнали, что Нэнси активно подталкивала Рейгана к сближению с Горбачевым и даже помогала преодолеть сопротивление тех в администрации, кто этого не хотел. Конечно, и Раиса Максимовна во всем поддерживала Михаила Сергеевича, ее роль в выходе нашей страны из изоляции трудно переоценить. Когда Горбачевы и супруги Рейган встречались впоследствии — во время визита Горбачева в США в 1990 году и после отставки, когда Рейган пригласил их на свое ранчо, контакт был теплый, человеческий.
Никто так не помог нахождению общего языка (еще раз подчеркну: в той мере, в какой это было возможно в период, когда мы только выходили из холодной войны) между высшими руководителями СССР и США, как государственный секретарь Джордж Шульц. Моя последняя встреча с ним была, если не ошибаюсь, в 1997 году. Шульц выступал на одной из конференций, в которой я участвовал. Увидев меня и руководителя отдела печати МИД в годы перестройки Г.И. Герасимова, он тут же пригласил нас на ланч, во время которого мы оживленно обсуждали перипетии тогдашних российско-американских отношений. Бывший госсекретарь высказал тогда одну интересную мысль, которая мне запомнилась. Взаимодействуя с вами, сказал он, мы стремились доказать вам, что несмотря на все разногласия относимся к вам с уважением. Мы с Герасимовым подтвердили, что это чувствовалось. И особенно со стороны Шульца. Надо отдать должное Горбачеву и Шеварднадзе: они в полной мере оценили его позицию и человеческие качества.
Но дело было не только в «уважении». Из мемуаров самого Шульца и других участников тогдашних событий выяснилось, какие битвы шли в администрации Рейгана вокруг проблематики отношений с Советским Союзом. Не все из них Шульц выиграл. Но главный бой — вокруг договора о ликвидации ракет средней дальности — выиграли те, кто остался верен слову президента (ведь «нулевой вариант», объективно выгодный нашей стране, но отвергнутый догорбачевским руководством, был предложен Рональдом Рейганом), здравому смыслу и тому, что я назвал бы принципом международной порядочности. Когда мы приняли это вариант, не было недостатка в желающих торпедировать подписание и ратификацию договора. Приведу лишь несколько имен: на разных этапах против него так или иначе выступали Генри Киссинджер, Брент Скоукрофт, Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран. Думаю, именно настойчивость Шульца и Рейгана в продвижении этого договора убедили Горбачева в том, что определенный уровень доверия в наших отношениях достигнут, а значит — надо быстрее идти на решения по таким проблемам, как вывод наших войск из Афганистана.
В своей книге «Мои годы с Горбачевым и Шеварднадзе», вышедшей в США в 1997 году, я рассказал об эпизоде, когда я оказался «один на один» в автомобиле с Михаилом Сергеевичем, возвращавшимся в советское посольство после подписания договора о ракетах средней дальности в Белом Доме в декабре 1987 года. Горбачев был в приподнятом настроении. Не знаю, как я решился в этой обстановке спросить его (все-таки генсек по тем временам был очень высокой, почти «запредельной» фигурой): «А как все-таки с Афганистаном, Михаил Сергеевич?». — «Будем решать», — коротко ответил Горбачев. И действительно, вскоре войска были выведены — с достоинством и без «драпа», которого Горбачев, как он потом не раз говорил, обязательно хотел избежать.
К сожалению, вырванные из контекста фрагменты воспоминаний Шульца и сменившего его на посту госсекретаря Джеймса Бейкера дали некоторым нашим исследователям, в том числе довольно серьезным, например профессору А.Уткину, основания сделать вывод о том, что наши руководители слишком доверились американским партнерам, вели себя недостаточно твердо и чуть ли не сентиментально, чего никогда не допускали американцы. В общем, «потеря бдительности». На эти обвинения мне тоже уже пришлось отвечать. Как свидетель фактически всех советско-американских встреч, могу сказать, что ничего подобного не было. Переговоры шли очень конкретно и достаточно жестко с обеих сторон, не говоря уже о том, что наша позиция на них определялась выработанными заранее директивами, утвержденными политбюро, которые Горбачев никогда не нарушал (более того, иногда, как, например, в Рейкьявике, он шел по более жесткому варианту, чтобы прощупать партнера и оставить возможность для «конкретизации прорыва» на более позднее время, «когда пыль осядет». Что и произошло).
Конечно, личные отношения, человеческое доверие между руководителями государств сыграли свою роль в прекращении холодной войны. В случае Горбачева и Дж.Буша-старшего можно говорить об укрепившейся, особенно в послепрезидентские годы, взаимной симпатии, чему я был свидетелем во время их встреч. Когда 15 сентября этого года они встретились в Москве в «Горбачев-фонде», это действительно была встреча друзей. Оба хорошо информированы (Буш, как все бывшие президенты США, получает от администрации регулярную информацию, в том числе закрытого характера), и это чувствовалось в разговоре. Но каждый воспринимает происходящее через свою призму, и, как и прежде, мнения не всегда совпадают. Мне показалось, однако, очень существенным согласие двух бывших президентов по одному пункту: сейчас, после иракских событий, самое главное — восстановить диалог и сотрудничество великих держав по ключевым проблемам международных отношений. Возможности содействовать этому у Горбачева и Буша сейчас, конечно, не те, что прежде, но они есть.
Обвинения в излишнем доверии, но уже к Горбачеву, в недостаточной жесткости на переговорах сначала имели активное хождение в новой, сменившей рейгановскую, администрации США. Конечно, новые люди, пусть даже представляющие ту же партию, всегда хотят «сделать по-другому» — по-человечески это вполне понятно. Но в результате администрация Буша затеяла «стратегическую переоценку» отношений с СССР, которая не дала ничего, кроме потери времени. Впоследствии это косвенно признал даже инициатор этого предприятия, помощник Буша по национальной безопасности Брент Скоукрофт.
Это тот случай, когда за словом — в данном случае «стратегический обзор» — по сути дела ничего не стоит. Работая тогда уже в отделе США МИДа, я в наших внутренних дискуссиях отстаивал терпеливую линию в отношении американцев; как и многие (но не все) мои коллеги, я говорил, что надо дать им время и не обвинять их в затягивании переговорного процесса — правда, на пропагандистском уровне это иногда все-таки делалось. Сейчас, задним числом, ясно, что потеря темпа в наших отношениях имела негативные последствия, особенно с учетом стремительности внутренних процессов в Советском Союзе и странах Восточной Европы. Жаль, что первая встреча с Бушем на высшем уровне произошла лишь в конце 1989 года, потому что вполне возможно, что, если бы новый уровень доверия и взаимодействия наших стран был продемонстрирован раньше, это способствовало бы более постепенному, нормальному и упорядоченному развитию всех тогдашних процессов, в том числе наших внутренних. Доказать эту гипотезу, конечно, невозможно, к тому же факт остается фактом: новая администрация уже к маю 1989 года достаточно верно разобралась в ситуации, и визит госсекретаря Дж. Бейкера в Москву положил начало вполне успешному взаимодействию.
Слова и тем более лозунги — не самое главное в отношениях между государствами, но думаю, что выдвинутый тогда лозунг «от конфронтации — к сотрудничеству и партнерству» был вполне адекватным ситуации и реальным возможностям сторон. И если бы не «пошедшая вразнос» внутренняя ситуация в Советском Союзе, сделать можно было бы очень много. Готовность к этому была у обеих сторон. Фактически это означало конец холодной войны. Вряд ли можно обозначить его конкретную дату, но где-то в период между июльским 1988 года визитом Рейгана в Москву, когда, стоя у Царь-пушки в Кремле, он сказал, что не считает горбачевский Советский Союз «империей зла», и заявлениями Горбачева и Буша в 1989-1990 г.г. о том, что наши страны больше не рассматривают друг друга как врага, холодная война сошла на нет, «рассосалась». Попытки приравнять окончание холодной войны и распад Советского Союза, кстати, сделанные впервые у нас — некоторыми политологами и мидовскими деятелями «раннеельцинского» периода, несостоятельны. Ясно и аргументированно их опроверг в своих работах бывший посол США в Москве Дж.Мэтлок: холодная война, говорит он, окончилась еще до распада СССР, и окончилась не как капитуляция одной из сторон, а на достойных, взаимоприемлемых условиях. То, что произошло потом, — саморазрушение и самобичевание России — уже на совести людей, любой ценой рвавшихся к власти и добившихся ее.
И, конечно, не надо забывать, что само понятие «холодной войны» — не более чем метафора. Те, кто с легкостью необыкновенной повторяет «мы проиграли третью мировую войну», просто не отдают себе отчет в том, что говорят. Условное употребление слова «война» не отменяет того факта, что, каким бы противоречивым ни был этот период, едва ли не главной его сутью были усилия по предотвращению войны, которая могла принести человечеству невиданные бедствия. И войну удалось предотвратить. В это внесли свой вклад тысячи людей, и к ним мы должны испытывать благодарность — особенно к тем, кто в моменты наибольших обострений (например, во время кубинского ракетного кризиса, по традиции называемого у нас «карибским») настойчиво искал выход из положения, в которое по инерции «военных» подходов ставили себя СССР и США. Как мне кажется, оценка периода холодной войны — и не только вопроса о том, когда она началась и когда кончилась, но и ее содержания — это проблема, которой стоит заняться. За словом здесь стоит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, и неправильные, демагогические оценки чреваты опасными последствиями.
Вернусь к последним двум годам существования СССР. Психологически это был трудный для меня период. Я тяжело переживал отставку Шеварднадзе. Конечно, я чувствовал, что в его отношениях с Горбачевым возникли осложнения, но я работал с ними обоими, симпатизировал и тому, и другому и искренне надеялся, что все как-то обойдется. Получилось иначе. Шеварднадзе (со второй, кстати говоря, попытки) все-таки ушел, и мои размышления по этому поводу были очень нерадостными. Через пару недель после своего заявления об отставке (а он продолжал работать еще около месяца, пока не решился окончательно вопрос о его преемнике и А.А. Бессмертных приступил к работе) Эдуард Амвросиевич принял меня в своем кабинете. Мы разговаривали около часа, и хотя я просил о встрече, в основном, чтобы обсудить свое будущее, он счел нужным объяснить причины своего решения уйти в отставку. После беседы я записал ее довольно подробно, и когда-нибудь обязательно опубликую эту почти дословную запись. Сейчас скажу только, что он меня не вполне убедил в правильности своего решения, и это было одной из причин, по которым я не только продолжал поддерживать Горбачева, но и принял его предложение (сделанное за несколько месяцев до того) перейти на работу в формировавшийся тогда аппарат президента. Еще одной причиной моего согласия было то, что группу консультантов президента по международным вопросам должен был возглавить Анатолий Сергеевич Черняев, к которому я испытывал огромное уважение и с которым хорошо сработался во время встреч на высшем уровне. Это был новый поворот в моей биографии — как выяснилось, не последний и не надолго.
Работа в аппарате президента была очень интересной, хотя происходила она на фоне сложной ситуации 1991 года, когда внутренние события — с постоянной сменой надежд и разочарований, ударами и контрударами «под дых», по голове и ниже пояса — сменяли друг друга с головокружительной быстротой. В своей книге я рассказываю о запомнившихся мне профессиональных вехах — они связаны прежде всего с подготовкой к первому участию Горбачева в саммите «семерки» в Лондоне и с самим этим саммитом, а также со встречей Горбачев-Буш в Москве и подписанием договора СНВ-1. Конечно, приглашение Горбачева на «семерку» было важнейшим прорывом, обозначившим поворот к интеграции нашей страны в мировую экономику. Но само его участие было не совсем удачным (хотя совсем неудачным его тоже не назовешь). Особенно это почувствовала Маргарет Тэтчер, к тому времени уже «отставленная» и пришедшая навестить Горбачева в посольство СССР, где он остановился. Я не относил себя к ее самым горячим поклонникам, но в тот день не мог не оценить проницательность и быстроту ее суждений. «Они подвели вас», — сказала «железная леди» о членах «семерки». — «Как же они не поняли, что сейчас самое главное — по-настоящему поддержать Горбачева, пойти на крупные шаги, чтобы закрепить то, что вы начали в СССР». Мне кажется, что мысль Джорджа Буша начинала работать в этом направлении, и некоторые его высказывания во время московской встречи и посещения затем Киева об этом свидетельствуют. Но, как выяснилось через несколько недель, было уже поздно. Августовский путч, организованный людьми, полагавшими, что они спасают СССР, предопределил обвальное и, самое главное, неправовое разрушение страны.
Ни тогда, ни впоследствии у меня не было никаких подозрений в том, что Горбачев «сам стоял за путчистами». На мой взгляд, эти подозрения совершенно абсурдны. Не буду перечислять все аргументы, но об одном скажу: в то время как члены ГКЧП выдвигали сначала одну, потом другую, потом третью версию событий, Горбачев своей никогда не менял и не отказался ни от одного своего слова. Для меня достаточно уже этого.
Декабрь 1991 года был для всех нас — и в первую очередь для Михаила Сергеевича — тяжким испытанием. Он вынес его с большим достоинством, что я наблюдал тогда буквально каждый день. Последние его телефонные разговоры с руководителями государств, разговор с Джорджем Бушем в день западного Рождества и затем выступление по телевидению с последним обращением к стране (толком не выслушанным большинством людей, не понятым и должным образом не оцененным) — на шкале исторического драматизма все это будет стоять очень высоко. Наши личные проблемы и предположения о своей дальнейшей судьбе, конечно, выглядели мелко по сравнению с этой драмой, и все-таки все мы пытались проникнуть в туманную перспективу будущего и увидеть в ней себя. Но не очень получалось.
Примерно 20 декабря мне позвонил заместитель министра иностранных дел СССР А.А. Авдеев. Мы, сказал он, сейчас предлагаем всем мидовским сотрудникам, перешедшим в аппарат президента и оставшимся в резерве МИДа, вернуться в министерство. Но действовать надо быстро — МИД СССР доживает последние и скоро мы с нашими нынешними должностями распрощаемся. Если вы решите вернуться, то мы все оформим в максимально быстрые сроки.
Конечно, за такие вещи принято благодарить, и я действительно был благодарен Александру Алексеевичу. Но хотя никаких особых планов у меня не было, я сказал ему, что воспользоваться этим приглашением не могу (я никак не видел себя в антураже президента Ельцина). А через пару недель я получил в кадровых структурах Кремля трудовую книжку, в которой было сказано, по какой статье я был уволен из аппарата президента СССР (что-то вроде «в связи с прекращением существования работодателя»). Закончился большой, насыщенный событиями этап моей жизни, начинался новый, и потом я никогда не пожалел о своем решении.
Все последующие годы я работал в Горбачев-Фонде. Об этой организации и о многочисленных проектах неугомонного Михаила Сергеевича надо писать отдельно - сейчас скажу только, что забот хватало, а моя работа — международные связи Фонда и пресса — оказалась очень интересной и к тому же оставляла достаточно времени для продолжения практики синхронного переводчика. Таким образом решилась и финансовая проблема, поначалу беспокоившая меня и мою семью.
Теперь я наблюдал за российской внешней политикой и дипломатией со стороны и, конечно, я понимал, что наши преемники неизбежно захотят что-то изменить - это вполне естественно, иначе нигде не бывает. Однако быстро обозначившееся пренебрежительное отношение к достигнутому предшественниками, попытки сделать вид, что настоящая внешняя политика, настоящее сотрудничество с Западом начинаются только сейчас, когда с «империей зла» (кое-кто у нас употреблял и это подзабытое к тому времени выражение Рейгана) покончено, охаивание нового мышления и противопоставление ему национальных интересов России — все это вызывало у меня и не только у меня раздражение. И опять-таки, дело не только и не столько в словах: нежелание признавать и реализовывать на деле преемственность внешней политики перестроечного Советского Союза и независимой России привело к ошибкам и промахам и, кстати говоря, не прибавило руководителям России уважения в глазах зарубежных партнеров. На практике же преемственность во многом сохранялась, да иначе и быть не могло. Признание взаимосвязанности и взаимозависимости мира, линия на интеграцию страны в мировую политику и экономику, сотрудничество перед лицом реальных глобальных вызовов всему человечеству, курс на демократизацию международных отношений — все то, с чем связано понятие «нового мышления», не было конъюнктурной «придумкой», а отражало реальные потребности мира и нашей страны.
Опыт показал, что попытки отойти от этой линии, судорожные дерганья в одну или в другую сторону до добра не доводят. То «бросок на Запад», клятвы в верности «западным ценностям» в ущерб отношениям с Югом и Востоком, то откат в противоположную сторону, создание нового «образа врага» в лице Запада и особенно США. Как правило, наши руководители рано или поздно возвращались в международных делах на горбачевские рельсы, даже тогда, когда фамилия бывшего президента не только не упоминалась, но была чуть ли не в «проскрипционном списке» — совсем как имя Хрущева при Брежневе. Слово — в данном случае имя — не произносилось, но на деле внешнеполитическое наследие Горбачева продолжало работать на Россию. И сегодня его позитивная инерция во многом предопределяет невозможность возврата к конфронтационному курсу. Но, как стало особенно ясно в конце 2004 года, внешняя политика сегодняшней России является сферой не менее проблемной, чем внутренняя. На ней не может не лежать печать той своеобразной «российской системы», которая сложилась у нас в стране в последнее десятилетие и которая довольно далека от нормальной демократии.
Конечно, наша система отличается от советской по формальным и некоторым сущностным признакам (частная собственность, выборы). Но у нее есть особенности, которые коренятся в не преодоленном до сих пор советском и российском прошлом. Это прежде всего монополизм и безальтернативность нашей власти. Все мы помним парламентские выборы в 1999 году и те «технологии», которые использовались для того, чтобы не произошло реальной ротации власти даже внутри сформировавшейся к тому времени элиты. Передача президентских полномочий в канун 2000 года тоже имела мало общего с нормальным демократическим процессом.
События того периода закрепили сложившуюся ситуацию: усталое, озабоченное в основном собственным выживанием общество, интеллектуально слабая, деморализованная элита и возвышающийся над всем глава государства, наделенный огромными полномочиями. В такой системе не может быть реальной, эффективной дискуссии по основным проблемам внутренней и внешней политики. И даже когда президент принимает, на мой взгляд, правильные решения — как, например, решения, принятые им после 11 сентября и в период, предшествовавший американскому вторжению в Ирак — сам механизм их выработки остается закрытым, а их корректировка, хотя бы тактическая, оказывается невозможной.
То, что такая корректировка бывает необходима, доказал иракский кризис. В принципе Россия вела себя правильно. Тактически же — небезупречно. Как только стало ясно, что американцам нужно не «разоружение Ирака», а «смена режима», надо было искать варианты действий в этом направлении без войны. Возможно ли это было, сейчас трудно сказать, но попробовать стоило. Довольно неприглядное зрелище представляла собой наша пропаганда того периода, и это, безусловно, результат той системы «информационной безопасности» и «управляемых СМИ», которая была выстроена — особенно на нашем телевидении — в последние годы.
Решения по критически важным внешнеполитическим вопросам, как правило, — трудные решения, это обычно выбор не между хорошим и лучшим, а между не очень хорошим и совсем плохим. И если политическая элита и пресса вместо того, чтобы реально участвовать в поиске оптимального варианта, пытаются лишь угадать, как рассудит президент, то найти ответ ему будет не легче, а труднее.
В ближайшие годы выработка внешней политики России не станет более легким делом. Осложняющих факторов много, и, пожалуй, главный из них — особое положение США в современном мире. Для нас, выросших в большинстве своем на антиамериканских дрожжах, принять это положение как факт — нелегко. К тому же мы сами усугубляем это положение тягучими и совершенно ненужными дискуссиями на тему «Однополярность или многополярность». Опять забываем, что эти слова — не более чем условные обозначения, метафоры, которые не надо понимать буквально.
Если посмотреть, чтó за словом, то ситуация ясна: Соединенные Штаты Америки действительно занимают в сегодняшнем мире особое положение, у них огромные возможности, и не существует ни одной страны, которая не нуждалась бы в как можно более хороших отношениях с США. Нужны такие отношения и России. Но надо видеть и другое: США могут очень многое, но они не всесильны. И, скажем, разговоры о том, чтобы «наказать Францию», которыми совсем недавно была полна американская пресса, просто несерьезны. По большому счету США не могут «наказать» и Россию, при всех наших нынешних проблемах. И это, может быть, самый серьезный наш козырь — более важный, чем ядерное оружие (которое вообще является козырем только в руках опасных, авантюристических режимов типа северокорейского) или заинтересованность США во взаимодействии с Россией против международного терроризма.
Мы вступили в эпоху, в которой конечные национальные интересы фактически всех государств едины или однотипны. Вымучивать нечто «специфически наш»е, вроде «неплохо бы нам прижать X, Y или Z», не имеет смысла. А вот создание демократической системы международных отношений определенно отвечает правильно понятым интересам России, но оно, безусловно, отвечает и интересам других стран, в том числе США. И нынешняя мощь американской сверхдержавы либо будет использована в интересах этой конечной цели, либо уйдет в разные военные и идеологические авантюры, не имеющие разумной цели. И хотя путь к новой, демократической международной системе будет, скорее всего, долгим и мучительным, вектор движения будет именно таким, ибо невозможно представить себе, как неизбежная демократизация внутренней жизни стран может сочетаться с недемократичной системой межгосударственных отношений.
Интеллектуальный потенциал России позволяет ей полноправно участвовать в поисках действительно нового мирового порядка. Последние события подсказывают, что потребуется серьезное переосмысление международного права, выработка новых механизмов безопасности, учет относительного веса государств в международной системе. Предстоящие изменения будут болезненными едва ли не для всех. В том числе для американцев, которых ждет еще много сюрпризов. Но для нас не это главное. Наша способность участвовать в создании нового мирового порядка будет зависеть прежде всего от того, сможем ли мы вырваться из тисков «российской системы», реально демократизировать наше государство и общество.
Выскажу несколько «кощунственную» мысль: демократический механизм принятия внешнеполитических решений важнее их конкретного содержания. «Процесс важнее результата». Потому что ошибочное решение, принятое в рамках устойчиво демократического механизма, будет рано или поздно скорректировано, зато правильное решение, принятое пусть даже просвещенным авторитарным правителем, может быть рано или поздно опрокинуто либо им самим (ибо человеку свойственно ошибаться), либо просто ходом событий, оставляющих государства, не способные к постоянной модернизации, на обочине. Мне кажется, что именно об этом должны постоянно думать творцы нашей внутренней и внешней политики.
- Войдите на сайт для отправки комментариев


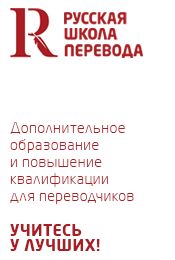




Последние комментарии
5 лет 32 недели назад
5 лет 42 недели назад
6 лет 20 недель назад
6 лет 39 недель назад
7 лет 4 часа назад
8 лет 24 недели назад
8 лет 24 недели назад
8 лет 46 недель назад
8 лет 46 недель назад
9 лет 5 недель назад