В эпизодах...
Павел Палажченко
Я никогда по-настоящему не писал стихов. Так, разве что какие-нибудь зарисовки, рифмованные впечатления, не претендующие на место в поэзии. Оказавшись в первый раз в Женеве, я через пару дней набросал такую картинку – что-то вроде эскиза для полотна, которому, конечно, не суждено появиться на свет:
Спокойна в озере вода
И вечером зеленовата.
На набережной, как всегда,
Туристы, шлюхи, дипломаты.И как в картине «Амаркорд»
Или еще не помню где,
Скользит неслышно пароход
По отражениям в воде.
Но поэзия всегда так много значила в моей жизни, что время от времени я писал подражания или «продолжения» запомнившихся мне стихов (в юности некоторые стихи я запоминал с первого прочтения). Лучше всего поддаются такого рода экзерсисам стихи поэтов небольших, но настоящих – скажем, Вертинского, Высоцкого, Симонова. Кстати, стихи именно таких поэтов, а не истинно великих, лучше всего ложатся на музыку. Не случайно песни на слова Исаковского стали народными. Я до сих пор убежден, что «Летят перелетные птицы» - упущенная президентом Путиным возможность предложить России гимн, который каждый пел бы с непритворной гордостью. И одновременно песня воспитывала бы поющих:
Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой.
Летят они в дальние страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою
Навеки родная страна.
Не нужно мне солнце чужое.
Чужая земля не нужна.
И правда, не «берег турецкий» нам нужен (и не абхазский), не поиски врагов, а нормальная жизнь в собственном доме.
К теням великих, конечно, прикасаешься по-другому, с трепетом, но все-таки иногда я проводил подражательные эксперименты в стилистике действительно больших поэтов. Публиковать получившееся я, конечно, никогда не стану, а единственное исключение сделаю сейчас только потому, что два моих четверостишия уж очень подходящее вступление к запискам, которые последуют.
Темой для вариации являются стихи Борис Пастернака из его последнего сборника. Многим, наверное, известно гениальное стихотворение «Божий мир», а те, кто его не знают, могут купить стихи Пастернака в любом книжном магазине (слава богу, ни самиздат, ни тамиздат теперь не нужен). Вот начало этого стихотворения:
Тени вечера волоса тоньше
За деревьями тянутся вдоль.
На дороге лесной почтальонша
Мне протягивает бандероль.
[…]
Горы, страны, границы, озера,
Перешейки и материки,
Обсужденья, отчеты, обзоры,
Дети, юноши и старики.
А какой финал:
Ну, а вы, собиратели марок!
За один мимолетный прием,
О, какой бы достался подарок
Вам на бедственном месте моем!
О многом говорит эта строфа, датированная 1959 годом.
Ну, а теперь мое «подражание» (не судите строго, а лучше вообще не судите):
Президенты, министры, премьеры,
Ассамблеи и встречи в верхах,
Все, чем жизнь одарила сверх меры,
Что потом обращается в прахНаравне с эпизодами, бытом,
С происшествием мелким в метро,
Неизвестно зачем не забытым
И заполнившим несколько строк…
О том, что мне довелось увидеть и пережить в годы, связанные для меня с «большой политикой» (действительно большой), я рассказал в книге My Years with Gorbachev and Shevardnadze, опубликованной в 1997 году в США, и в статье «Что за словом» (в сборнике «Прорыв к свободе», 2005 г.) А нижеследующее – несколько эпизодов, которые наверняка кому-то покажутся слишком незначительными. Мне же кажется, что без таких эпизодов большой сюжет беден.
Первое задание
В 1970 году студентов-старшекурсников инъяза в массовом порядке мобилизовали для работы в Египте. Сделано это было без призыва на военную службу, но десятки, если не сотни недоучившихся молодых переводчиков из различных вузов СССР, оказавшихся тогда на арабском Востоке, работали там «по линии» министерства обороны. Одним из главных проектов «военно-технического сотрудничества» было строительство комплексов ПВО в зоне Суэцкого канала. Были и другие проекты, в одном из которых я участвовал.
Особого выбора у меня не было. Ехать не очень хотелось, но для того чтобы отказаться, надо было иметь связи и возможности, которые у меня начисто отсутствовали. В выездной комиссии министерства сидели генералы, один из которых задал моему однокурснику Саше М. странный вопрос:
— Ехать хотите?
Ответ был, как говорят в шахматных комментариях, единственно возможный:
— Надо.
14 мая я вышел из самолета в каирском аэропорту и очутился, как мне показалось, в пароварке. Сочетание жары и совершенно неожиданной для меня влажности было просто убийственное, но молодой организм адаптируется быстро. И не только к погоде. Настроение, несмотря на разговоры о ежедневных израильских бомбежках и артобстрелах зоны канала (между двумя странами не было мира, и шла так называемая война на истощение), было довольно беззаботное.
Часам к восьми я при помощи встретившего меня переводчика Олега П. добрался в Наср-сити – довольно приличный комплекс многоэтажных зданий, которые тогда использовались в основном советским военным контингентом. На город уже спустилась непроглядная южная тьма, которую нарушал свет всего нескольких окон дома, куда мы вошли с моим провожатым. Большинство квартир было не занято, лифт не работал, и мы пешком взобрались на шестой этаж полупустого дома. Олег толкнул ногой дверь, но она не поддавалась.
— Ключ! — громко сказал Олег, дохнув на меня перегаром, в оттенках которого я разобрался позже.
Из его объяснений я понял, что квартира, в которую меня определили, должна была стоять открытой, но прежний жилец, видимо, сдал ключ дежурному.
— Саид! — почти истошно крикнул Олег в лестничный пролет, но ответа не было. Тогда он с неожиданной стремительностью сбежал вниз, и когда я догнал его, он уже разговаривал в комнатке привратника на первом этаже с полусонным арабом.
— Лязим ифтах! Шуф! Ключ! Хамса и этнин! — повторял Олег несколько арабских и русских слов, и в конце концов Саид выдал ключ.
— Пить будешь? — спросил Олег, когда мы снова поднимались на шестой этаж. Я отказался (и правильно сделал: без практики, необходимой для освоения медицинского спирта, называвшегося в советской колонии «хамасташка», я бы после выпивки скорее всего заболел). Через двадцать минут я уже спал.
Наутро я отправился в «офис» — штаб аппарата советников и специалистов при египетской армии. Начальник всех переводчиков полковник К. первым делом указал мне:
— Вы небриты.
И был абсолютно прав. Я считал тогда, что моя щетина не требует ежедневного выбривания. Этот и некоторые другие уроки впоследствии внедрили в мое сознание железный принцип: переводчик должен быть выбрит, прилично одет и пунктуален – в этом процентов шестьдесят успеха.
Полковник К. задал мне несколько вопросов, после чего сказал, что группа специалистов, с которой я должен работать, приезжает через пару дней, а пока возможные задания я буду получать у Олега.
После обеда Олег подошел ко мне и, озираясь по сторонам, сказал:
— Ты это, давай, это самое, тут надо с доктором съездить.
Доктору было лет сорок, у него были крупные черты лица и редкие выцветшие волосы. За двадцать минут нашей поездки он не сказал ни слова. Машина въехала во двор большого обшарпанного здания больницы и остановилась у флигелька, в котором даже мой неопытный взгляд узнал морг.
— Пойдем, — сказал доктор.
К нам вышли два человека – врач и прозектор. Мертвое тело уже лежало на металлическом столе. Обменявшись несколькими фразами, которые я с грехом пополам перевел, медики приступили к делу.
Прозектор сделал большой надрез и начал ловко вынимать из брюшной полости внутренности погибшего, которые, по-видимому, не имели отношения к причине смерти. Наш врач сказал, что его интересует область легких. После этого все замолчали. Тем временем воздух наполнился таким запахом, что я не выдержал. К горлу подступал съеденный час назад обед. Я, даже не извинившись, буквально вылетел на улицу.
За несколько минут, что я провел в раскаленном больничном дворе, мне удалось взять себя в руки, но когда я, торопливо извиняясь, вернулся, все уже шло к концу. Доктора обменивались латинскими словами, из которых я расслышал только vena cava. Может быть, из сочувствия ко мне египтянин, прощаясь с нашим доктором, что-то сказал по-английски, и я, еще не вполне крепким голосом, перевел его слова и ответ, прекрасно понимая, что мой первый блин вышел действительно комом.
— Да вы не расстраивайтесь, — сказал мне на обратном пути доктор. — Это у вас нормальная реакция. А майор, понимаете, попал под артобстрел на канале, его довезли в расположение части, в сознании, и вроде бы казалось, что легкое ранение. Позвонили нашим, но пока за ним приехали, он умер. Осколок шел через легкое и надрезал нижнюю полую вену. Мгновенная смерть.
Олег, вынырнув как из-под земли, как только мы приехали в офис, сказал шоферу:
— Это, ты это, отвези меня, надо купить жене, мохер там, гипюр, золото.
Я не сразу понял, о чем речь. Только вечером, когда Олег затащил меня к себе «посидеть», до меня дошло, что он покупал все это на выделенные командованием деньги для жены погибшего майора.
— Как-то это… не знаю, — сказал я. — У нее муж погиб, а тут гипюр…
Олег был уже в таком состоянии, что не стал комментировать мои слова. Зато энергично закусывавший привезенными мною из Москвы консервами Володя В. отреагировал сразу:
— Э, нет, дорогой. Баба молодая — поплачет, конечно, а потом дальше жить надо. Все очень даже пригодится.
Шпиономания
В 1970-е годы я работал в секретариате ООН в Нью-Йорке. Я многим обязан этому времени, хотя как профессионал по-настоящему сформировался уже в последующие годы. Для меня, двадцатипятилетнего человека — по воспитанию, мировосприятию и психологии одновременно и советского, и не очень — самым интересным в эти годы было погружение в жизнь тогдашнего Нью-Йорка. Переводчики, особенно синхронисты, тогда чувствовали себя относительно свободно, хотя мы были накрепко привязаны к советской колонии. И все же, когда ходишь каждый день на службу не в советское учреждение, а в ООН с ее интернациональным коллективом и американскими традициями, что-то в человеке меняется. И начальство нашего представительства — миссии, как под влиянием английского его называли почти все — вполне отдавало себе в этом отчет. Мы знали и видели, что за нами присматривают.
Я тогда не планировал никакой карьеры, вообще плохо представлял себе, что буду делать по окончании своей нью-йоркской пятилетки, и может быть поэтому вел себя в основном как считал нужным – нормально общался с коллегами по другим кабинам, с соседями и другими американцами, хотя формально считалось, что это должно делаться только «с разрешения руководства». Общение это было очень приятным и ничем не осложнялось, за исключением одного случая, о котором позже. Но сначала о самом большом скандале, который пришелся на те годы.
Я узнал о нем от жены. Она работала на полставки телефонисткой в советском представительстве, а другую половину ставки занимала жена моего ооновского начальника Ирина Львовна Ч. Как рассказала ей Ирина Львовна, утром в закуток телефонистки ворвалась ее знакомая.
— Держись крепче за стул, — предупредила она. — Я тебе сейчас что-то скажу. Шевченко ушел.
В русском языке нет точного соответствия американскому глаголу to defect, поэтому мысль, что дипломат перешел на сторону американцев, выражалась «приблизительно» — говорили то «сбежал», то «ушел», то «остался». Неудовлетворительность соответствия не мешала понимать, о чем речь. А Аркадий Шевченко был не просто дипломат. Занимая пост заместителя генерального секретаря ООН по вопросам Совета Безопасности, он был самым высокопоставленным советским сотрудником секретариата ООН. Птица высокого полета. К тому же говорили и считали само собой разумеющимся, что он близок к семье министра иностранных дел Громыко — просто так, без «поддержки» (мидовское словечко) на таком месте оказаться было невозможно.
— Ну, сейчас начнется, — сказала Ирина Львовна моей жене, когда та пришла принимать после обеда смену. — Пойдут звонки, надо отвечать We have nothing to say about it.
Эту формулировку было велено повторять без изменений. Почему-то руководство решило, что между ней и We have no comment — огромная разница.
Но плотину прорвало только на другой день. Информация об «уходе» Шевченко выплеснулась на первые полосы газет. Радио и телевидение тоже постоянно повторяли это сообщение, хотя я не помню, чтобы его очень активно комментировали. Да в этом и не было необходимости — факт говорил сам за себя, это было для нас жуткое поражение в пропагандистской войне.
Я видел Шевченко всего пару раз. Однажды он выступал на заседании первого комитета ООН, и я наблюдал его из кабины синхронного перевода. Хорошо сшитый костюм не мог скрыть его, как мне показалось, болезненную сутулость, создававшую в верхней части спины нечто похожее на горб. Говорил он почему-то по-русски (как сотрудник секретариата должен был бы — по-английски) и довольно примитивно. Никакого интереса к его фигуре я среди ооновцев не замечал.
Ну, а в советской колонии началась свистопляска на предмет бдительности. Стали придумывать всякие «меры» по ее повышению. Мудрая Ирина Львовна, которая была с мужем уже во второй длительной командировке в Нью-Йорке и немало повидала, заметила:
— Опять зажмут переводчиков и журналистов.
В общем, так и оказалось — эти две когорты, чувствовавшие себя относительно самостоятельно, всегда были объектом преувеличенного внимания и воспитания со стороны парткома и кадровиков. Помню какие-то «мероприятия» и беседы, на которые нас обязывали ходить. К счастью, на этот раз никаких особенно идиотских мер придумано не было. Видимо, есть предел фантазии начальства, да и не хотелось ему напоминаний о гигантском проколе.
К тому же не так легко уже в это время было зажимать людей, даже когда есть чем пригрозить. Однажды, когда представительский кадровик Евгений Иванович Б., распекая за что-то моего коллегу Лешу Ч. (ныне покойного), заявил, что может прервать его командировку и отправить в Москву, тот ответил:
— А вы меня родиной не пугайте.
Вся эта история уже поросла быльем — сначала как-то забылась, потом, во время перестройки и после смерти Шевченко (жизнь его в Америке сложилась неудачно, изобилуя жалкими и пошлыми поворотами), был некоторый всплеск интереса, и сын Шевченко даже издал книгу. Мне же эта история запомнилась прежде всего ощущением тщеты шпионских страстей. Конечно, любой дипломат знает какие-то тайны и секреты, и, казалось бы, разведкам есть за что бороться. Но тогда я чувствовал, а потом узнал, что все это по большей части полная чепуха. Колоссальные усилия сотен людей тратятся впустую. Лихорадочно вербуя на протяжении десятилетий советников, секретарей и полковников разведки, спецслужбы упустили экстремистов, террористов и прочую действительно опасную братию.
Даже к моей персоне проявляли интерес. Году, кажется, в 1976-м один случайный американский знакомый предложил свести меня с «очень интересным человеком», сделав прозрачный намек. Я промолчал. Согласно инструкции для советских граждан за рубежом я должен был бы бежать в представительство, чтобы доложить о «попытке подхода». Кончилось бы это отправкой домой, и вся моя жизнь изменилась бы в одночасье. Будучи человеком законопослушным и даже в некоторой степени идейным, дураком я все-таки не был и никуда не пошел. А когда знакомый через пару недель повторил свое предложение, я сказал ему:
— Передайте этому интересному человеку, что я принесу больше пользы и своей стране и вашей, если буду честно делать свою работу.
Так оно в конце концов и получилось.
Паспорт
Мои планы на послеооновский период были туманны, но в общем я был бы доволен вернуться в инъяз, где в течение года преподавал до отъезда в Нью-Йорк. Но как раз незадолго до окончания моей нью-йоркской командировки в МИДе создали несколько странную структуру под названием «резерв переводчиков и машинисток международных организаций». Замысел состоял в том, чтобы закрыть как можно больше временных контрактов в международных организациях нашими людьми, а для этого их надо иметь в постоянной готовности — с паспортами, визами и т.д. В промежутках между командировками люди в основном бездельничали.
Меня взяли на службу в этот самый резерв сразу по возвращении в Москву и довольно быстро перевели в собственно отдел переводов на Смоленской площади, который на протяжении многих лет был укомплектован примерно одной и той же небольшой группой людей, а теперь начал расширяться.
Отношения с ветеранами отдела не всегда складывались легко, но я всем им благодарен. Смотрели они на меня по-разному, но подножек, насколько я это мог видеть, не ставили. Я многому тогда научился.
Главным в моей тогдашней работе было «боевое крещение», которое я получил как дипломатический переводчик на важных, хотя и бесплодных межгосударственных переговорах — о сокращении вооружений в Европе, ракетах средней дальности, мерах доверия и безопасности. Интересующихся могу отослать к упомянутой выше статье. Здесь скажу лишь, что одновременно с профессиональным ростом я потихоньку обрастал мхом интеллектуальной лени и цинизма, потому что заниматься в общем-то тупиковым делом на протяжении нескольких лет с одинаковым энтузиазмом невозможно.
В конце 1983 года переговоры о ракетах средней дальности лопнули после размещения американских ракет в Европе. Настроение у меня и у многих в МИДе было скверное. Все же у большинства хватило ума понять, что мы доигрались с гонкой вооружений до аховой ситуации. Никакая внешнеполитическая пропаганда не могла ни скрыть, ни тем более изменить этого очевидного факта.
Заведующий нашим отделом Александр Алексеевич Р. высказывался на этот счет в узком кругу весьма определенно. И одновременно — заботился о том, чтобы подчиненные ему переводчики не простаивали. Однажды в начале 1984 года он вызвал меня в свой кабинет и сообщил, что «есть возможность очень неплохо съездить».
Действительно, командировка в штаб-квартиру Экономической комиссии ООН по Азии и Тихоокеанскому региону в Бангкоке, а оттуда — сразу в Токио на сессию этой комиссии была чрезвычайно соблазнительной, и я с благодарностью ухватился за этот «утешительный приз». Ни в Таиланде, ни в Японии я до этого не был.
Никаких забот о визах и авиабилетах у нашей небольшой группы не было — всем этим занимались мидовские кадровики. Через пару недель мы были в Бангкоке, остановившись на две недели в не самой заштатной гостинице «Таи».
Город, с его каналами, храмами и симпатичными улыбчивыми людьми, тайская кухня, неутомительная работа, беззаботное общение с коллегами — все это создавало какое-то легкое, временами просто праздничное настроение. А еще и ожидание поездки в полумифический город Токио с его неоном и электроникой!
Правда, хорошо помню, как за несколько дней до отъезда, гуляя в сгущающихся сумерках по улицам Бангкока, я внезапно почувствовал смутную тревогу. Потом стало совсем темно, в магазинах, торговавших цветами и похоронными венками (недалеко был храм, как обычно в этой стране, с крематорием), зажегся свет, и мне стало совсем не по себе. Я вернулся в гостиницу и, сидя в кондиционированном до холода баре, забыл об этом мимолетном настроении.
Было ли это предчувствием грядущей большой неприятности? Не знаю, я человек, гордящийся своей рациональностью и совершенно не склонный к какой-либо эзотерике. Но на следующее утро меня ждал шок: пропал бумажник с паспортом и деньгами. Я хорошо помнил, что положил его, как всегда, в ящик комода с майками и рубашками. Дверь была закрыта, в том числе на цепочку, но специалистам, видимо, не составило труда преодолеть это нехитрое препятствие. В какой-то момент мне стало казаться, что ночью я ощутил чужое присутствие в номере, но принял это за сон. Впрочем, это была скорее всего иллюзия встревоженного сознания.
Так или иначе, бумажник был потерян. Грабителей интересовали, конечно, только деньги, но мне от этого было не легче. В Таиланде, видимо, не принято подбрасывать ограбленным путешественникам их документы, тем более что для граждан большинства стран потеря или похищение паспорта не являются даже административным нарушением, и им по первому требованию выдают дубликат.
Но у нас! Но диппаспорт! Я понимал, что ситуация для меня близкая к «полной гибели всерьез». В таких случаях, так же, как узнав о тяжелой болезни, человек проходит несколько стадий в своей реакции — от отторжения (denial) до примирения с неизбежным. Утром я с тяжелым сердцем отправился в консульский отдел советского посольства в Бангкоке.
Посольство было расположено в старом здании, в помещениях которого пахло плесенью, несмотря на непрекращающуюся борьбу с бангкокской влажностью. Ко мне вышел консул Юрий Александрович Д. — высокий мужчина неопределенного возраста с залысинами на неожиданно бледном лбу. Я рассказал ему, в чем дело.
Выражение лица консула на протяжении моего рассказа не изменилось. Симпатии в нем я не заметил, но не было и осуждения или враждебности.
— Пишите объяснение, — сказал он. — Отъезд в Токио у вас когда?
— Через два дня, — ответил я, внутренне смирившись с тем, что никакого Токио, видимо, не будет.
Д. на мои слова никак не реагировал, и через несколько минут, забрав мое объяснение, сказал как-то довольно неофициально:
- Ну ладно, завтра приходите, там видно будет.
Мой старший товарищ по работе Владимир Ф., узнав о случившемся, уверенно заявил, что мне придется отправиться домой со «справкой о возвращении в СССР» (так, кажется, назывался документ, выдававшийся в подобных случаях) и дома будут неприятности, но «в конце концов обойдется».
На другой день я шел в консульство, вполне готовый к этому, и, как ни странно, настроение было не самое плохое. Может быть, опять предчувствие, на этот раз хорошего?
Юрий Александрович Д. долго меня не мучил:
— Написал я в Москву, что ваше объяснение сомнений не вызывает и в связи с необходимостью продолжения командировки считал бы возможным выдать вам на месте паспорт. Они не ответили пока, чешутся. В общем, завтра получите паспорт, а в Москве будете с ними объясняться.
Не могу сказать, что сердце мое прыгнуло от счастья. По молодости лет (впрочем, какая молодость — мне было уже 35 лет!) я даже не осознал, как мне повезло.
В Москве кто-то из знакомых кадровиков сказал мне, что через несколько дней Д. получил из Москвы «отлуп» — спохватившись, решили, что он чуть ли не превысил свои полномочия.
— Ерунда, конечно, — добавил мой знакомый, — он имеет право сам решать, но вполне мог отправить тебя домой, а по горячим следам и тебе бы здесь не выговор вкатили, а могли из МИДа выгнать.
Никогда потом я не видел Юрия Александровича Д. Видимо, он представлял не МИД, а другое ведомство. Где, в каких закоулках гигантского мегаполиса госбезопасности протекала потом его карьера, мне неизвестно, но хотелось бы, чтобы он знал, что я буду всегда благодарен ему.
Конечно, конец мидовской карьеры — это не конец света. Мы не знали еще, что наступают новые времена, когда человек моей профессии сможет нормально жить и зарабатывать и вне официальных структур. Но это была бы для меня другая жизнь, а я благодарен за ту, которую довелось прожить.
- Войдите на сайт для отправки комментариев


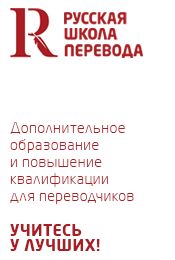




Последние комментарии
5 лет 32 недели назад
5 лет 42 недели назад
6 лет 20 недель назад
6 лет 39 недель назад
7 лет 5 часов назад
8 лет 24 недели назад
8 лет 24 недели назад
8 лет 46 недель назад
8 лет 46 недель назад
9 лет 5 недель назад